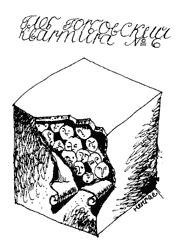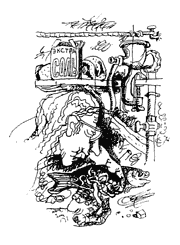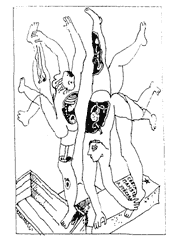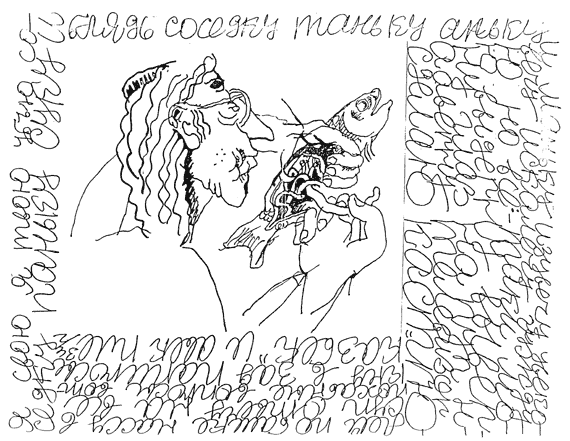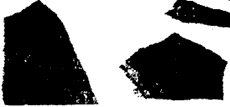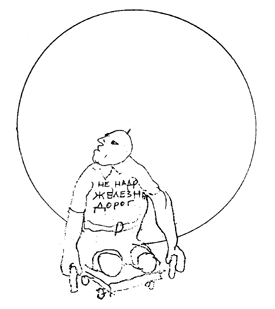Несколько слов о Глебе Горбовском
Русский поэт Глеб Горбовский незаметно скончался в конце 60-х годовXX-го столетия, но член союза советских писателей Глеб Яковлевич Горбовский продолжает славное проживание в Ленинграде на Васильевском острове в месте, которое по старой памяти зовется Гаванью.
Глеб Яковлевич Горбовский издал.., точнее, Глебу Яковлевичу Горбовскому определенные литературно-административные инстанции издали более 10 книг, включая "Избранное". Название "Избранное" звучит несколько странно для ещё пишущего автора: то ли Горбовский дал обещание не писать лучше, чем в "Избранном", то ли признал себя неспособным к дальнейшему созданию поэзии.
- Глеб - это эпоха! - говорит голос Константина К. Кузьминского из телефонной трубки, - Вот и вчера опять всю ночь говорили о Глебе. Глеб - мерило...
Первой моей реакцией был протест: это не так! Не может один человек быть эпохой чего бы то ни было. Но протест был бессловесный - по американскому телефону не поспоришь, ежели абоненты не имеют постоянного и приличного /по величине/ дохода. А второй реакции не было - был укол памяти, пронзительная боль о бывшем и удивительно ясная видимость вспять - зрячесть, очищенная длиною времени и расстояния.
... Любившими доказано,
любовь в разлуке - зорче.
Г.Горбовский, строки из неудачной поэмы о Ленинграде. |
Не могу оспаривать поэтическое провиденье Глеба Горбовского, но и верить не могу, так как утверждение поэта не более, чем штамп - литературный ляп, которые так крепко прижились в издательствах, видимо, всех стран и народов: официальные власти любят такие ляпы - они оставляют в памяти читателя кирпичик "законного", с которого начинается "удобное сознание." Но назад - к нашим баранам.
Эпоха... Что такое - эпоха? Какой исторический или нравственный смысл закрыт в это прозвище? Глеб - это эпоха... А Евтушенко - тоже эпоха, или часть , или не? Может быть существует эпоха имени Вознесенского? Или Маяковского? Или Мандельштама? Трагический тенор эпохи - Блок - звучал в период революций, так сказать, был звуком эпохи, но не эпохой и Анна Андреевна поименовала Блока так для большей убедительности и красоты, ибо сама в то время была только хористкой. А что потом? Какая эпоха сменила революции: эпоха ЧК? эпоха пролеткульта? эпоха коллективизации? Во сколько миллионов трагических голосов звучали эти эпохи? Где имена певцов? - - - Но поиски эпох могут увести в несказанные дали и увести от предмета разговора, и, чтобы не терять умозрительной ниточки, по которой мы отправляемся в поиски истины, заручившись правдой /правдивостью, точностью, документальностью/, помня, что ИСТИНА и ПРАВДА далеко не всегда одно и то же, - назовем - - вполне условно! - следующую эпоху русской литературы ЭПОХОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА. Невнятица понятия "социалистический реализм" легко об'единяет любые поэтические проявления, лишь бы главным в творчестве авторов было служение так называемой советской власти, а власть за службу делает автора известным в определенной ранге. И еще давайте запомним, что социалистический реализм отгораживался кровью и колючей проволокой от тех, кто не служил советской власти или служил не так рабски, как требовалось. И в данном случае творчество поэта Горбовского может быть действительно наглядным объяснением существа социалистического реализма, однако не более наглядным, чем творчество Павленко, Евтушенко, Наровчатова, Дудина, Орлова, Кузнецова и прочих деятелей.
Одно время казалось, что Глеб Горбовский - поэт божьей милостью -не будет связан путами службы. По крайней мере, черты его биографии должны были бы отвергнуть поэта от службы. Казалось... Глеб Горбовский родился 4 октября 1931 года на севере от Ленинграда в КОМИ - так было записано в паспорте, который Глеб таскал в кармане пиджака, не расставаясь. Родители Глеба Горбовского были преподавателями русского языка и литературы. По словам Глеба, его отец был репрессирован по нелепому доносу /кажется, за покушение на жизнь Кагановича/, на допросе Якову Горбовскому выбили глаз ударом тяжеленного тома "Капитала" - в коже и с латунными наугольниками. Яков Горбовский отбыл 10 лет в трудовых лагерях, а потом не получил право на жительство в крупных городах, и поселился на Волге, вроде бы в Кинешме. После ареста отца, мать поэта вскоре вышла замуж за прокурора, который обвинял Якова Горбовского, и с новой семьей переселилась куда-то на юг, а Глебу осталась большая полутемная комната /29 кв.мтр./ на 9 линии Васильевского острова. Со слов Глеба мне известно, что в 1941 году его отправили в деревню к дяде, в этой деревне его захлестнула война. Немецкие солдаты из озорства спаивали подростка шнапсом,. Глеб привык к выпивке и нес эту "привычку" почти 30 лет. Среднюю школу Горбовский не закончил по причине пьянства, но закончил ремесленное училище по профессии плотника. До призыва на воинскую службу успел побывать в колонии для несовершеннолетних нарушителей, а потом два года прослужил в стройбате /филиал исправительно-трудовых лагерей/. За два года службы Горбовский получил 196 суток ареста за пьянство, и в конце второго года службы был уволен из армии по болезни.
Наша дружба началась стихийно - в 1954 году, но запомнил я Глеба Горбовского еще в школе в 1946 году: клубок тел скатился по лестнице к гардеробу, клубок рычал, хрипел, орал - и распался, - над всклокоченным и рычащим парнем в боксерской стойке замер Дон, общий любимец школьников. Дон не ударил поверженного - Дон протянул руку, помог противнику подняться на ноги, и оба в обнимку вышли из школы. Вихрастый рычун был Глеб Горбовский. Дон - Юрий Игнатьев стал с той поры приятелем Глеба на долгое время, - только растущая известность поэта, то есть новый образ жизни Горбовского прекратил их приятельство. Юрий Игнатьев - мастер спорта по боксу, был чемпионом города, но для некоторых уголовников работал по "отмазке". Не знаю писал ли стихи Глеб в этот период жизни, но точно знаю, что пил, а пьяный - зверел.
Двумя годами позже я не успел на спектакль снятия с крыши пьяного ремесленника, - снимали пожарные с помощью складной лестницы. Ремесленник кричал и брыкался на радость сотоварищей по ремеслу и на веселье гарнизону местной шпаны.
Однажды, в пору дружбы, мы спешили с Глебом за бутылочкой "зубровки" на Малый проспект в непопулярный гастроном, где продавались настойки - тоже непопулярные в те годы. Пробегая мимо "ремесла", мы заметили на крыше двух парней, которые нетвердо шли вдоль карниза.
- Резнутся, - сказал Глеб.
- Нет, - возразил я, вспомнив подвиг пожарных, - пожарники снимут.
- Это меня снимали... - без восторга признался Глеб.
... Последняя встреча с Глебом Горбовским была у меня в 1979 году в августе месяце, в Ленинграде, в ОВИРе... За более, чем 30 лет знакомства, на долю дружбы выпало только семь-восемь лет - с 1954 по 1961 год - самое интенсивное и самое интересное время творчества поэта Глеба Горбовского. По словам Глеба, к 1962 году были сделаны 6 поэм и около 1000 стихотворений и песен. В "Избранное" вошло 450 стихотворений, но только около 70 помечены датами тех лет. Где остальные стихи поэта?! Не ведомо. Впечатление, что Горбовского обокрали. Но кто? Пожалуй, что сам поэт. Весь ряд поэтических публикаций доказывает это. Авторская правка для "прохода" некогда казалась временной уступкой цензуре, к сожалению, на деле не уступка, а служба литературным администраторам стала правилом поэта Горбовского. Вот примеры: Было ...квинтэссенция в хлебе,
в парт и проф нахлобучках. | | Стало ...квинтэссенция в хлебе,
в бытовых нахлобучках. | или | | ...я буду стрелять, если в выстреле сущность,
с улыбкой умру за родимую Русь... | | ...я буду стрелять, если в выстреле сущность,
с улыбкой умру за Советскую Русь... |
В каждом варианте правки изменено по одному слову, зато полностью изменен смысл стихотворений. Оба стихотворения из "непечатных" превратились в служебные.
А в 1954 году в записной книжке Горбовского было не более 20 стихотворений - предостихотворений, из которых в памяти остались строчки:
| Витька, друг, жили мы помнишь как?
А теперь по барабану легких палочки Коха. |
Последняя строка несет груз стопроцентной реальности - наш друг той поры Виктор Бузинов /ныне известный беспринципностью, пьянством и авторством поделок о Ленине радиожурналист/ заболел туберкулезом и потерял одно легкое. Тяга к конкретным деталям наметилась у Горбовского ещё в достиховом периоде, эту тягу он осознает и сделает "мясом" стихов, а через десять лет пьяный Шигашев будет пророчествовать:
- Отец, пойми, главное - детали, детали, детали... Началом поэзии Глеба Горбовского - бесспорно - явилось стихотворение "Ослик", которое и зафиксировало неразрывность фактов биографии с географией стихов в творчестве Глеба Горбовского. Ленинградцы должны помнить, что в 1954-1955 году по городу из района в район перевозилась на ослике касса цирка.
Рыжий ослик родом из цирка
прямо на Невском в центре движенья
тащит фургон, в фургоне дырка -
касса: билеты на все представления.
Ослик тот до смешного скромен,
даже к детям он равнодушен.
Город-грохот так огромен,
в центре ослик, кульками уши.
Славный ослик, немного грустный, служит ослик, как я, искусству. |
При всех шероховатостях стихотворения, обаяние так велико - и поэта
и ослика, точность попадания в читательское сердце такая снайперская, что Ослику ничего другого не оставалось, как выполнить свою миссию и ввезти в святой город поэзии новое имя.
Глеб Горбовский не только написал удачное стихотворение - он ещё уловил возможность эксплуатации определенного приема писательства, то есть возможность стиля, - и сразу же опробовал действие своей находки в стихах. Следом за "Осликом" - залпом /или запоем?/ выплеснулись стихи "Муха", "Зеркало", "Воздух", "В автобусе" и другие. Основные стихи этого потока были опубликованы в сборнике "Молодой Ленинград" в 1956 году
- тогда, когда имя поэта Глеба Горбовского было уже на устах студентов
- самого массового и самого активного класса любителей поэзии.
В 1954 году о поэте Глебе Горбовском ещё никто не знал. В записной книжке были песенки, куплеты, частушки, сотворенные во время солдатской службы, а может быть и ранее.
| У сержанта новый ремешок. Ты, сержант, хороший корешок. Убери ремень с дороги, чтоб глаза он не мозолил, дважды два ему приделать ноги.
Или:
Ты любитель беленькой "московской," я её поклонник с давних лет. Вам клянется сам солдат Горбовский: в целом мире лучше водки нет.
Или:
Маленькая, пьяная деваха, из какого бара ты ушла, на тебе вся порвата рубаха, ты почти раздета до гола...
Или:
Когда качаются фонарики ночные и темной улицей опасно вам ходить, я из пивной иду, я никого не жду, я никого уже не в силах полюбить... Или песенка, обличающая "запад":
Сидела пара на скамье,
и мисс в объятиях дрожала,
а Время как всегда: тик-тик,
а Время как всегда - тик-тик -
бежало. |
Я не привожу тексты песен и куплетов полностью - нет нужды. Но песенка о "западе" была сотворена специально для исполнения в самодеятельности на календарных праздниках, сотворена по заказу комбата, и за такие песенки Горбовского освобождали из-под ареста гауптвахты. Разумеется, это были ловкие шалости, литературные шалости, но опасные шалости - через тридцать лет после первых шалостей мы видим, что "шалостями" начинено "Избранное" Горбовского, что это не случайно, а специально, то есть Горбовский начал делать компромиссные стихи давно, расчетливо, уверенно. В середине пятидесятых годов разглядеть этот метод внедрения в поэзию было невозможно. Во-первых стихов было чрезвычайно много и в сравнении со стихами поэтов официального приложения /Дудин, Чепуров, Браун, Азаров в Ленинграде, и такая же популярная серость в Москве/ казались праздничными блестками, а во-вторых в то время еще не было ясного представления о поэзии будущего десятилетия: поэзия большинства молодых авторов казалась монолитом новой, чуть ли не революционной формации, нового - свободного дыхания поэзии:
| Плевало Время на меня, плюю на Время. |
Но повторяю, буйный и пьяный Горбовский имел трезвый, расчетливый ум. По складу характера ему был ненавистен любой вид насилия над его личностью. И вот в солдатчине, когда капитан заставил Глеба заготовлять дрова для капитанского дома, плотник и солдат Горбовский одним махом топора отрубил себе две фаланги правого указательного пальца, за что подлежал осуждению трибуналом. Но Горбовского комиссовали по-чистой, то есть по болезни без переосвидетельствования, - Глеб это вычислил заранее и выполнил расчет, ибо по инерции сталинских законов трибуналу подлежал и капитан, который за использование солдатского труда в личных целях мог получить срок больший, чем членовредитель.
Кстати, о "Фонариках". В то время не было сомнений, что песня принадлежит Глебу Горбовскому - он ее пел, от него мы ее услышали, они - Глеб и песня - были похожи эмоциями. Но в 1961 году вышел на экраны фильм "Гибель империи", где в одном эпизоде - в каталажке лихой уголовник /актер Н.Рыбников/ поет "Фонарики". У Глеба Горбовского в ту пору еще не было ни широкой официальной известности, ни хватких друзей, которые мог ли бы протащить его песню в сценарий /в фильм/, тем более, что песня была "непечатная" - блатная что-ли. Гонорара авторского за эту песню Глеб тоже не получил. Мелькнула тень подозрения, но пропала - не до подозрений было в ту пору. Сейчас же плагиат Горбовского очевиден - он присвоил песню очень давно для утешения непомерного тщеславия. По словам Горбовского, "Фонарики" сделаны где-то в 1951 году, то есть в то время, когда он не владел техникой стиха, а текст "Фонариков" сколочен мастерски. Далее, публикация текста песни в "Антологии" Константина К. Кузьминского с "новым", то есть прежде не певшимся, куплетом - уже не доказательство, а криминальная улика, так как куплет не только старомоден, но и начинен реалиями дореволюционного города, которых Горбовский знать не мог. Но с уголовным миром юный Глеб был знаком коротко, и в лабиринтах этого мира мог "найти" свою песню.
После успеха первых стихотворений в стиле "горбовский", Глеб пишет, как штурмует, - редкий день проходил без стихов, но - обычно! - за одну ночь он успевал написать два-три, а то и пять, шесть стихотворений. Неудачная поэма "Дебри" или "Добрые дебри" - приблизительно 300 строк, была выполнена за две ночи /на коммунальной кухне в квартире, где я прожил большую часть жизни/, - осколки поэмы в виде стихотворений помещены в "Избранное" - это "В кабине", "Рубины малины в кустах при дороге."
В каждой работе о творчестве поэтов - будь то краткая статья или обширное исследование - обязательны жесткие факты биографии, которые подкрашиваются доброжелательством или злобностью, так сказать, освещают поучительностью заурядные поступки. Моя работа о Глебе Горбовском есть скорее всего - некролог, а эта литературная форма требует сдержанности и особенности, но, тем не менее, и мне хочется рассказать о конкретных проявлениях поэта в быту, чтобы фольклор о Горбовском имел черты истинности и ежедневности.
Внешность Глеба Горбовского
Он близорук, глаза сидят очень близко к переносице, брови и ресницы густые и неяркие. Если Горбовский смотрит вдаль, он щурится, морщит нос, рот открывает треугольником, как кот; если он смотрит себе под нос, то глаза делаются круглыми, зрачок судорожный, словно зверик смотрит. На голове у Глеба волос - тьма, двоим бы хватило, - волос рыжеватый, тусклый и жесткий.
Глеб довольно высок, то есть в пятидесятых годах рост 178-180 см. считался высоким, но следующие поколения, рожденные в мирные и сравнительно сытые времена, стали крупнее /длиннее/, и Глеб стал человеком среднего роста.
Горбовский в труде
Он не был силен и не был здоров физически - от постоянных пьянок он испытывал изжогу и боль в брюхе, физический труд он ненавидел и трудиться на производстве не стремился, в чем, безусловно, был прав, так как труд поэта - поэзия, а не таскание, пиление, тесание, взрывание и все прочее. Трудовая география в стихах Горбовского об'ясняется очень просто: до вступления в члены союза советских писателей социальное положение поэта именовалось "тунеядец", он мог быть преследуем милицией, и друзья Глеба из "горняков" /в частности, Олег Тарутин/ устраивали его в экспедиции для заработка и трудового приложения. Член ССП Глеб Яковлевич Горбовский прекратил дальние заезды, и катается в дома творчества, а иногда к родственникам последней жены в Белоруссию, что также отражено в стихах последнего десятилетия.
Удивительно, что критика как бы не заметила стихотворения "На лесоповале", хотя оно опубликовано не менее 10 раз, а стихи говорят:
| Тела, смолистые от пота, а бревна, потные от тел. Так вот какая ты, работа... Тебя я так давно хотел ! |
В 1958 году - дата стихотворения - Горбовскому было 27 лет, но он ещё не отведал труда, то есть постоянный труд для поэта был в новинку. Хотение труда - выдумка поэта, выдумка, угодная редакторам издательств.
Фольклор о Горбовском
3 мая 1955 года Глеб Горбовский вышагнул в окно с лестничной площадки - с третьего этажа. Он был бос, то есть в одних носках /ботинки остались отдыхать в комнате/. Глеб не разбился и даже не поцарапался, - он шагнул на поленницу дров, прикрытых ржавым железом, - грохот был жуткий словно взрывы, стены двора-колодца отражали звук, многожды усиливая его. Глеб решил исчезнуть, сбежать, потеряться. Возвратить Глеба отправился человек сравнительно трезвый, богатырской силы и непобедимого здоровья.
- Идем назад, Глеб, - говорила лошадиная мощность.
- Давай, я тебе сперва в морду резну, потом пойдем, - отвечал Глеб. Глеб ударил наотмашь, но без видимого результата, - здоровяк даже не покачнулся.
- Не, - сказал Глеб, - надо не так. Давай снова.
На второй раз Глеб угодил здоровяку кулаком в горло. Здоровяк заперхал, отплевался, а потом погрузил Глеба на плечо и принес в комнату веселья, причем долгий путь через дворы и до четвертого этажа по лестнице Глеб перенес молча и без сопротивления: выполнял данное слово "потом пойдем".
х х х Глеб ходил в баню не чаще одного раза в год - не было смены белья, но не это было главным. В отрочестве или в юности лихие друзья изрисовали тело Глеба аляповатыми татуировками: на груди яркая лира с ангелочками - лила не менее суповой тарелки по величине, на ногах фигурки обнаженных человечков, и прочая дребедень в различных местах кожи. Глеб стеснялся татуировок, стеснялся до такой степени, что не снимал рубахи даже в "глуши", когда вокруг не было пляжного населения. Стеснительность - сильное и яркое качество Горбовского, но когда он одолевал стеснительность, то становился наглым:
- Вы без меня задохнетесь, задохнетесь, задохнетесь! - орал пьяный Глеб.
х х х
Глеб остро чувствовал юмор, но в быту оперировал несколькими характерными штампами имени Горбовского /дяди, ибо Глеб говорил, что нашел эти словеса у дяди в деревне во время войны/:
- Всё говно, кроме мочи.
- Лататы по кустам.
- Это всё берцы.
Не дай бог слушателю спросить, что такое лататы.
- Лататы - это такая же пизда, как ты, - с мрачным восторгом отвечал Горбовский.
Но обладая ораторской способностью объясняться матерно, Глеб использовал умение крайне редко - уверен, что реже любого среднего ленинградца, отягченного высшим или специальным образованием. У озлобленного Глеба чувство юмора переходило в патологический сарказм. Для примера две эпиграммы Горбовского:
| На трибуну вышел Рацер: надо ж где-то обосраться.
или: У Мочалова моча
по стихам бежит, журча.
И Мочалова мочу
я читаю и молчу. |
х х х
Область исследовании "Горбовский и женщины" заслуживает многих страниц, а то и целой книги, так как у Глеба не было /и не могло быть/ только функционального, инстинктивного влечения к женщине. Поэтический дар тоже не помощник в любовных делах, так как заставляет избывать чувства такой силы, каковые не умещаются в сознании даже таких оригинальных женщин, как первая жена Глеба Горбовского - Лидия Гладкая. Дамьё же любит поэзию, как правило, как наряды, то есть до и после постели. А Глеб обладает цельным чувством, неделимым на время суток, неделимым на удобные слова, что не может служить подарком женщине. Огромность чувства пугала женщин - они отбывали, убывали, исчезали, а Глеб пьянел от своей любви, как от водки, и обрушивал поток стихов на следующую женщину - на каждую следующую женщину. | Нас женщины любили, - спасибо им от нас! Для них мы щеки брили порою лишний раз, для них цветы по кличкам старались называть, для них сообща и лично ходили воевать.
Они нам грели спины,
кормили нас борщом,
они, мужей покинув
таких живых еще,
шли даже к нам, бродягам,
голодным и худым.
За эту их отвагу
да будет счастья им!
Да снимут с них проклятья
бессонные мужья!
Как знамя, край их платья
теперь целую я.
1960-1961 г. |
х х х
Глеб на природе - явление увлекательное, - мы знаем литературные примеры такого рода в виде кабинетных ученых, оказавшихся на просторе земного шара, как Паганэль господина Жуль Верна. Стоило больших разговоров - уговоров, чтобы вытянуть Глеба на рыбалку или на отдых вдали от Города.
Первый выезд к невским порогам был без приключений, если не считать провидческого нежелания Глеба снять рубаху. Мы были там втроем. Двое носились голышом, а Глеб ходил в длинных носках, в семейных трусах и рубахе, застегнутой до горла. И вот в этой пустыне появилась пастушка - не юная, не добрая, но криво повязанная и голосистая, - она призывала не то козу, не то овцу:
- Мань, мань, мань, мань... Мы - голыши - прыснули в кусты, а Глеб реготал, очень довольный.
Второй заезд на рыбалку оставил след даже в литературе Горбовского:
| Хлеба на озере нет два дня, скоро не будет огня... |
Мы отправились рыбачить на озеро Вялье. Добрались до Ящеры поездом, в деревне Ящера отменно поели /у нашего друга в Ящере каждый третий житель был родственником/, а от сытости утратили память и внимание. Мы ушли на озеро /около 10 километров по шатким болотам/ рыбачить и охотиться, но забыли в Ящере патроны к ружью, наживку к удочкам, хлеб и консервы, нож и ложки... Мы вспомнили о снаряжении на озере, когда распаковывались. Топор был, но не было топорища. Топором без топорища было изготовлено топорище, затем нарублены хвойные лапищи для удобства наших тел, так как почва была кочкастая и влажная. Нашелся в рюкзаке пакет пищевого концентрата и хлебная горбушка. Ширяич наградил удочку хлебным шариком -и клюнуло... За вечер была отловлена не то плотвица, не то язица - малек в палец длиною, но и малька испекли над костром, и сожрали без соли. А потом налетели комары:
| Комар вонзился в прокопченый палец, но я смолчал, я слова не сказал, - и кровью человечьей наливались немые комариные глаза... |
Следующим утром мы покинули славное озеро. В Ящере опять было объедение пищей. Потом Ширяич добыл плоскодонку и мы отправились ловить на дорожку /это когда леску держишь в руке, или в зубах, или намотаешь на большой палец ноги, а блесна юлит за кормой со скоростью лодки/. Ширяич греб, я потягивал леску, а Глеб сидел нахохлившись и без интереса. Но вот Ширяич бросил весла и схватил себя за ногу - за леску, схватил и потянул, и вытянул щуренка на полкило весом /безмен-то у нас был и на озере!/- яркого, стройного и очень живого. Глеб тоже ожил.
- Дай мне, - сказал Глеб. - А как я узнаю, что клюнуло?
- Рыба дернет, как зацепится, - ответил Ширяич. Через минуту Глеб выговорил сдавленным шопотом:
- Зацеп, зацепило...
Глаза у Глеба светились, как у хищного зверька на охоте.
- Тяни, - посоветовал Ширяич.
Глеб потянул - тянул и вытянул великолепную щуку /раз в пять больше первого щуренка/ - сильную, бьющуюся. Над лодкой щука выплюнула блесну и полетела в лодку, колотясь о дно, прыгая, извиваясь. Следом за щукой прыгнул Глеб - через Ширяича, через меня, забыв о том, что плоскодонка может опрокинуться, что он сам не умеет плавать, - Глеб вцепился всеми девятью пальцами в щучий загривок, он оскалился, как щука, он давил и давил - - - и щука запищала тонким, предсмертным фальцетом, а Глеб зарычал. А после победы над рыбой, Глеб спросил:
- Что это она пищала?
- Ты ей воздух из плавательного пузыря выдавил - это воздух пищал, объяснил добрый Ширяич.
Мы пробыли на озере Вяльем и в Ящере двое суток, и, за исключением времени ловли щук, Глеб не расставался с записной книжкой, на странички которой что-то записывал. Я хранил листок из этой записной книжки долгое время, так как и для меня это были следы живой жизни - слова-памятки, по которым легко вспоминалась та или иная ситуация: костер, топор, галстук, ерш, три сосны и так далее. В 1979 году при выезде из Ленинграда таможенники из'яли мои бумаги, и теперь этот листок, вероятно, хранится на крепких полках КГБ - как улика.
... Но вернемся домой, то есть к стихам, к творчеству поэта Глеба Горбовского, так как возвращение в дом - неизбывная тема российских поэтов. ... Очень возможно, что двуликость или многоликость есть общечеловеческое качество или свойство, то есть в зависимости от обстоятельств человек проявляется тем или иным образом, как бы чуждым ему, как бы случайным или резко противоположным его обычному складу. Так, наедине, когда не было рядом чужих глаз и ушей, Глеб Горбовский был человеком невероятного тепла, тишины и заботы. Перед чужими Глеб "выступал", поддразнивая или зля, или злясь самолично. И стихи для прихожан Глеб читал едкие, а иногда и лютые, вроде:
| Мы - поколение нерях, за разгильдяйство нас резонно мариновали в лагерях простых и концентрационных: за то, что мы не гладим брюк и щек не бреем ежедневно, за то, что мы не моем рук, на нас покрикивают гневно: - А, ваши трусики в дерьме, за это вас сгноим в тюрьме. |
Естественно, что эти стихи Глеб не читал с эстрады, но всегда - дома для прихожан. Он знал, что такие стихи бьют в сознание без промаху, что у каждого есть обнаженный нерв протеста, что трогать этот нерв сладостно и для себя, и для других:
| Зачем он роет эту яму? Во-первых, скажем, это труд, а труд ведет к получке прямо, а получив, едят и пьют. Лопатой чешет там и сям он, - грунт испугался, грунт притих.
Рабочий знал, он роет яму не для себя, а для других. |
В воздухе 1955 года носились очень смелые слухи о Сталине - возможно, что в "народ" специально процеживались некие вольности, подготавливая массовое сознание народонаселения к раскрытию культа личности Сталина. Глеб реагировал остро и точно:
| Постучали двое в черном, их пустили, как своих. Папа мой сидел в уборной - сочинял для сына стих. Мама грызла торт-полено, я - дурак - жевал картон, и вибрировал коленом звездолобый пинкертон. Нехорошие вы люди, что вы роетесь в посуде, что вы ищете, ребята, разве собственность не свята? |
Даже в стихах для эстрады, которые Глеб читал на поэтических вечерах и турнирах, звучали откровения горечи, нужды, протеста:
| ..А счетчик считает без счет, без бумаг, и кажется, высчитан каждый твой шаг, движение каждое сердца и ног, подсчитан и крови стремительный ток, - плати! - за биение сердца в груди, плати!...
/Счетчик, 1956 г./
Или:
... А рабочий любит щи, -
для него в тарелке мелко, для таких, как он, мужчин огород бы на тарелке. Ешь, рабочий, ешь плотней - будешь лошади сильней.
/В столовой, 1955 г./
Тем печальней читать в "Избранном":
... Как мало нужно для смиренья: всего лишь горсточку ума, и вот случилось озаренье...
... и эти яростные флаги,
и вечный тот прищур вождя... |
Конечно, прищур; естественно, что прищур, - прищур стрелка в сотни тысяч, прищур организатора концентрационных лагерей, прищур создателя кастрированной партийной литературы, которой ныне служит Глеб Яковлевич Горбовский - душой и телом. В книге "Явь" есть стихотворение "У шлагбаума" - это обычная литературная подлость без ума и сердца. Автор там - сторонний, но активный наблюдатель, даже более - общественный обвинитель - добровольный общественный обвинитель, активный на шмон, на вражду, на ненависть. И не мудрено, что словесный ряд стихотворения калькирует наихудшее идеологическое оружие, изобретенное Геббельсом-Ждановым для усмирения вольнодумных масс.
У шлагбаума
Он уезжает из России. Глаза, как два лохматых рта, глядят воинственно и сыто. Он уезжает. Всё. Черта.
"Прощай, немытая..." Пожитки летят БЛУДЛИВО на весы. Он взвесил все. Его ужимки для балагана. Для красы.
Шумит осенний ветер в липах, собака бродит у ларька. Немые проводы. Ни всхлипа. На злом лице - ни ветерка.
Стоит. Молчит. Спиной к востоку. Да оглянись разок, балда... Но те березы, те восторги его не тронут никогда.
Не приростал он к ним травою и даже льдом не примерзал. Ну, что ж, смывайся. Черт с тобою. Россия, братец, не вокзал!
С ее высокого крылечка упасть ВПОТЬМАХ немудрено. И, хоть сиянье жизни вечно, а двух отечеств не дано. |
О каких потемках - "впотьмах" - глаголет автор? Уж не Россия ли во мгле? Что ж это славные редактора просмотрели? Или поэту Горбовскому отныне позволено властью мутить воду и наводить тень на плетень? Я воспринимаю этот текст как личное оскорбление и как пошлую ложь, оговор, поклеп, как тупое жандармское ругательство в адрес людей, осмелившихся покинуть отечественные застенки. Видимо, Глеб Яковлевич более не тревожится тем, что в его дверь постучат те "двое в черном".
Итак, за плечами Горбовского пятьдесят лет жизни и более 10 книг. И ни одна книга не охватывает душу полным ощущением - горя - счастья - любви. Если для первой книги "Поиски тепла" - книги надежд - была простительна некоторая рыхлость подбора стихов и некоторая инфантильность чувств /поэма, давшая название книги, есть поэма ни о чем, то есть о пешем походе на свидание с не очень любимой женщиной - ни имени, ни лица, кроме лукавого "моя любовь сейчас в тепле"/ - простительна по той причине, что первую книгу Горбовского подбирал некто Владимиров, а редактировал некто Кузьмичев, - Глеб только радостно согласился с подборкой, так как знал, что первая книга - первая ступенька новой жизни, к которой он тяготел, но не простительна и не объяснима - казалось бы - позиция автора в следующих книгах, в которых четко и твердо запечатлен поэт официального идеологического приложения. Вспомним:
| ...Его ветрами облизало, его - как факел, голова. Ещё Россия не сказала свои последние слова! |
Патетично. Безусловно, патетично. И почти красиво. Но о чем это? Да ни о чем, но звук какой - еще Россия не сказала свои последние слова! - мед в горло власти, которая так умильно пестует руссизм, и претензия на мировое господство, ежели не территориальное, то духовное. И связь времен прямая:
| Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать - в Россию можно только верить. |
О чем это? то же самое - ни о чем, но звучит сладко, что забываешь о боге в которого нужно верить, которого не измеряют и не стремятся осознать, ибо вера есть доверие... Отождествлять какую бы то ни было страну с богом - грех, - это понятно даже мне, язычнику.
Тенденция служебных стихов развивается у Горбовского с каждой книгой, развивается так сильно и стремительно, что после 1970 года - практически нет ни одного оригинального стихотворения, но только строчки и отрывки, это какой-то поток общих идеологических наставлений, поток разрешенной и даже обязательной проблематики. И поэта не спасает умение писать стихи, яд службы и тут работает. Сравним словесный ряд в стихах живого /до 1970 гола/ и почившего /после 1970/ поэта:
| Приходите ко мне ночевать, мягче ночи моей - только сны, я из трав соберу вам кровать на зелененьких ножках весны... нужно ... рекой овладеть и держать ее гриву в руке. 1964 г. | Найти себя не в годы странствий...
ветхо убранство, невзирая на усталость
столь утлым все мирозданье предстает!
в сей бездне, в груди восторг, к
зову времени, сущий вздор, и жить
сначала...
1973 г. | | Превратиться в мелкий дождик, голод толстокожий, трогать гриву леса, нежностью небес- ной гладить сонные поля... 1966 | Проснулся и слышу: - Зачем я родился?
Отвечу, изволь. Чтоб радовать Землю.
Немалая роль. Столикую славить ее
красоту. Стозвонному горлу внимать.
1973 | | Кого спасает шкура, Кого огонь азарта. Одних хранит культура, других - обед и завтрак. Тебя спасет помада, его спасет работа. Меня спасать не надо - мне что-то не охота.
1961 | Приняв снотворное, явился танков гул, какая быль - такие сны, проснувшись, сам не свой, и вдруг прочел про ордена спортсменам, вдруг рванулся - ах, эта красная звезда... 1976 | | Тебя солнце подлизало с городской шершавой шкуры, таял ты, как тает сало .., в белом фартуке татарин гнал тебя метлою взашей.., снова дворника качало на метле по тротуару...
1957 | Притороченный к ней, измученный, явились глаза твои, окруженье врагов, в ореоле веков, ширью полей, ласкаю дитя, отрешась от страстей, солнце всходит на помощь тебе... 1978 |
Можно сравнивать почти каждое стихотворение - результат будет одинаков, словно после 1970 года Глеб Яковлевич Горбовский окончил некое церковно-канцелярское заведение с длительной практикой в монасях, так как речения поэта не стилизация, не изыскание в истории, а духовное зрение. В стихотворении "Снег" автор изменил одно слово - вместо "татарин" встало слово "товарищ", - что ж, это по-товарищески. После 1970 года поэту Горбовскому ни разу не удалось "рекой овладеть и держать ее гриву в руке" - плачьте женщины, удаль пропала! И все же атавистическая память /о том, что он поэт милостью божьей/ заставляет писать строчки, в которых различим прежний Глеб - теплый, чистый, искренний:
| Наступает разлука с собою. Все слышнее последний звонок. После жизни, как после запоя, убегает земля из-под ног...
Или:
Шагая устало и зыбко, я слышу: "Что с вами стряслось?" И прячу в дурацкой улыбке дурацкий ответ на вопрос.
Или:
Как гордо любилось!
Как любим отныне покорно.
Или:
Ах, какие кавалеры спят, не выйдя из меня!
Или:
Не кричи, разговаривай шопотом: я услышу тебя, как судьбу. Я уже успокоенный, шелковый, из зерна перетертый в крупу. |
Но такие строки - редкость, как археологические драгоценности. Зато стихи стали перенаселены пошлостью. Во вступительной статье к "Избранному" Наталья Банк замечает: "Творчество Горбовского вступило сейчас в новый возраст четких пристрастий, человеческих, гражданских, эстетических.." О, пронзительный критик Наталья Банк! - углядела-таки отличие человеческого от гражданского и от эстетического! Однако, читая "Избранное", видим четкое пристрастие поэта - службу. По служебным обстоятельствам стихи заселяются не образами, а шаблонами, штампами, ляпами "о людях старшего поколения, о тех, кто воевал" /перечень Натальи Банк/ и, конечно же, о тех, кто кровь мешками проливал, за что имеет льготы пожизненно. Не мудрено, что стихи становятся все более "программными" - программность одолела лирика, программность есть индикатор, показывающий степень отсутствия поэтического мышления. Да и зачем нужно поэтическое, ежели есть гражданственное мышление, четкое, как погоны, определяющее уровень поэта в среде авторов? Эти программные стихи - их больше двухсот в "Избранном" - самое отвратительное, что мог написать Горбовский, вооружась опытом стихописания. Читайте и судите сами, вот краткий список: "Старый охотник", "Ордена", "Баллада о генерале", "Баллада об интеллигенте","Черные кони","В аэропорту", "Сикстинская маданна", "Письмо", "Дом", "Скрипичный мастер", "На вокзале", "У реставратора", "Приметы" и так далее. Основным качеством этой продукции является название стихотворения, чтобы читатель не сбился с пути, чтобы запомнил, что известный поэт написал ЭТО - О или - ОБ.
Но стихи живого поэта - их невозможно исключить из жизни - протестуют против казенщины.
Глеб Горбовский против члена ССП Г.Я. Горбовского
| Найти себя не в годы странствий, а лишь теперь - на склоне лет... 1973 | Ребенок вымочил усы
на дождесеющей погоде,
и две ладони, как весы,
как балансировали вроде...
Ребенок тонок, хил и мал, пожух от времени, погнулся. Он сорок лет себя искал и, не найдя, назад вернулся... 1959-60 | | Рябило в глазах от мелькавшего хлама: то вспыхнет вершина, то явится яма, то венчик победы, то холмик утраты. Людовики, Карлы, а вслед им - Мараты. Всё было, всё было. И вдруг осенило: есть высшая доля! есть высшая сила! | Каждый день гробы на катафалках свозят на кладбищенскую свалку. Мимо окон с музыкой прощальной, с мимолетной кучкою скорбящих проезжает грузовик печальный, увозящий сложенное в ящик, -
каждый день за сумрачным окном
мне напоминает об одном: все идет туда, куда вставляют клизму, а не к коммунизму. 1959 | | Зачем я родился? Отвечу. Изволь. Чтоб радовать Землю. Немалая роль. | Опаздываю. Не взлететь по трапу, как будто ночь свалилась мне на плечи.
Опаздываю, но не на корабль, - на вечность. | И эти яростные флаги,
и вечный тот прищур вождя. | Карла Маркс у вас имелся - "Капитал" и борода, с ним какой-то Энгельс спелся: два пархатые жида. 1960-61 | Достучаться до звезд.
Вот и все, что мне надо покуда.
И
Поэты - частники, надомники.., поэмы строят многотомные, стучат по буквам молотком... | Постучали двое в черном, их пустили, как своих
/Полный текст приведен выше/.
1956 | | "Загадочная русская душа..." Какая чушь! Она открыта настежь и для веселья, и для мятежа, и для молчанья гордого в ненастье.
... Ее удел - гореть не остывая! О русская душа! Душа живая. | Канава ржава. В тоннах слизи в канаве жаба - жабий мир. У жабы тут полно провизии - живи, наслаивая жир, плодись, заваливая местность своею собственной икрой. И мне доподлинно известно, обрушь светило той порой, спали весь мир, оставь канаву, и жаба будет как всегда дышать, кормить себя на славу, - была бы мокрою вода.
/Из поэмы "Право на себя",
1957/ |
Последнее, что нужно отметить в сборнике "Избранное" - это некоторая подтасовка дат, коими отмечены стихотворения. Смысл подтасовки мне недоступен. Возможно, что специалист /имеется ввиду профессиональный искусствовед, хотя бы в штатском/ поймет или разгадает для чего автор смещает даты. Легкая неточность /ошибка на два-три года/ возможна по причине издательской, то есть под стихотворением может оказаться дата не написания, а опубликования стихотворения. Но есть вещи, на мой взгляд, не об'яснимые. Например, в 1961 году Глеб Горбовский не был знаком с Юрием Шигашевым /они могли познакомится не раньше 1964 года, но вероятнее всего, что они познакомились в 1965-1966 году, когда у Шигашева появилась семья и комната в центре города - за плечом Дворца пионеров, куда заскакивали жители окраин и жители иных градов и весей/. Словесный ряд стихотворения прямо скажем, посмертный - так уныло Глеб Горбовский в 1961 году писать не умел. Стихотворение, которое некогда было посвящено Наталье Шурыгиной, ныне опубликовано с посвящением Е.Евтушенко. Для чего? - Укрепление связей Москвы и Ленинграда? Или своеобразный вид клятвы-признания в соучастии? А ещё одно стихотворение:
Когда я потускнел и поржавел, и пообтерся, это ль не зловеще? - Ко мне впорхнула стая дивных тел! Блистательных и девушек, и женщин...
А раньше!? Где вы были жизнь назад? Когда я сам летал и разрастался, когда еще благоухал мой сад, когда я ласки в поисках метался?
Вот вы пришли. Я вам налью чайку. Я вам стишок бесполый проболтаю... |
Это истинный голос пожилого Горбовского, а не слова Глеба в 1961 году, когда он клокотал от чувств - от боли, от горечи:
Даже ты уходишь замуж,
одиноче я кукушки.
Мне тебя поить куда уж
из моей солдатской кружки...
Наталье Шурыгиной, 1961 год. |
Не влетала тогда в темную комнату Глеба никакая стая дивных тел - не было места в комнате, и не было бесполых стишков. Бесполые стишки - находка Горбовского последнего десятилетия. И в последнее десятилетие появилась возможность наблюдать стаи этих тел, - после женитьбы на Светлане, и читать бесполые стишки подругам Светланы, слетающимся на ИМЯ - на лицезрение пастыря, а пастырь - по должности своей - обязан творить высоко
моральные, то есть бесполые стихи.
Остается слабая надежда, что со временем всплывут горячие тексты Глеба Горбовского, и опытная рука составит "Избранное" без оглядки на власть, составит для поэзии, составит для русской литературы, которую Глеб Горбовский - безусловно! - любит. Возможно, что в это время ни поэта, ни его оппонентов не будет в среде живущих. Но кесарю - кесарево, а богу -богово.., ежели богово не уничтожено самим автором. |